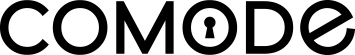Последний раз я прореживала виноград во дворе посольства Туркменистана.
Была приглашена туда на приём по случаю рождения книги отца всех туркмен. Парадно разодетые гости вели себя чинно, сообразно моменту: фланировали под узорчатым пологом, попивая шампанское, раскланивались со знакомыми, светским приглушённым говорком обменивались впечатлениями. А я деловито и непринуждённо выламывала изумрудные хрусткие веточки на узловатых лозах, шёпотом подсказывая сама себе – так, вот этот двойник уберём, этот тройник тем более не нужен…
Спутник мой, фотограф из глянцевого журнала, смущённо загораживал меня спиной от удивлённых взглядов гостей.
- Уймись уже… На тебя все смотрят.
А пусть смотрят. Осенью спасибо скажут, когда увидят, что гроздья вызрели под полтора кило весом.
Это у нас, у Мухамедумаровых (мой род по материнской линии), отпечатано на подкорке. Встроена агротехническая программа в мозгу - увидим, что на виноградной лозе отросли лишние пазуховые побеги, тут же рефлекторно начинаем их обламывать. Поясняя обескураженным зрителям:
- Это пасынки, они не нужны, только силу у лозы забирают. Урожая не будет большого, если оставить.
И нет нам разницы, что виноград этот не наш и что хозяева слегка шокированы таким беспардонным поведением.
Так нас дедушка учил – удаляй слабые побеги!
Дедушка Алим был красив обморочной византийской красотой. Изящные длинные пальцы, высокий чистый лоб, умный взгляд, аристократическая линия рта. Такая внешность больше подошла бы учёному при дворе Улугбека. Сидеть бы ему в прохладном сумраке обсерватории, где на стене под потолком надпись арабской вязью – "Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Склонившись над раскрытым старинным фолиантом из телячьей кожи. А за узорчатым окном шумел бы Самарканд. Муэдзин призывал бы правоверных к азану, а надменные павлины орали бы истошно, судорожно потряхивая хвостами в бирюзовых монетках на шёлковых кончиках.
Но дедушка был простой крестьянин, работал в колхозе за палочки в журнале главбуха, с самого раннего утра уходил в поле, неся на плече тяжёлый кетмень.
Бабушка исправно рожала раз в два года по дочери. Услышав в очередной раз, что "опять девочка", дедушка молча собирал торбу с едой, снимал с кованого крюка под тутовником плетёную клетку с перепелом и уходил в свои возлюбленные виноградники. Жил там в шалаше из тутовых ветвей, перемогая обиду на жизнь. Сколько можно, когда уже она сына родит… Перепел сочувствующе постанывал и поддакивал, встряхивая сердито полосатой головкой.
Дедушка мечтал о сыне так истово, как будто у него было приготовлено в дар наследнику как минимум одно ханство с дюжиной вассальных государств.
Ночами разводил костёр из сухих лоз, и сизый дым стлался по плантации, оплетая перекрученные, как отжатое бельё, стволы мглистыми, тут же тающими завитками. Хворост, сгорая, потрескивал, сверкая снопами искр и выстреливая шипящим, выступающим на срезах остатним соком.
Бабушка, оклемавшись после родов, дипломатично выжидала пару-тройку дней, заворачивала новорожденную в ветхую выцветшую тряпицу подырявее, чтобы жалостнее смотрелось, и долго шла к виноградным кущам по росным клеверным полям, где дотаивали клочья слоистого утреннего тумана и поднимался пчелиный гул, подогреваемый теплом восходящего солнца.
Дойдя до цели, осторожно укладывала младенца, как приманку, у входа и, просительно глядя в сумрачное чрево шалаша, заговаривала, колдовала как сирена, певучим своим голосом:
"Алим, дитя моё… Возвращайся домой. Здесь ведь холодно по ночам, простудишься… И дочки твои плачут, скучают по тебе… Возвращайся. Я буду молиться, и Аллах подарит нам ещё сына…"
В такие моменты она, приученная обращаться к мужу на "Вы", чувствовала себя старшей и увещевала его, как неразумного ребёнка.
Пятую дочь назвали Уғылай. В переводе с узбекского – предшествующая сыну, родившаяся перед сыном.
А потом дедушку забрали на войну. И он прошёл её всю, и вернулся целым и невредимым.
Что его оберегало, какая сила? Может, бабушкин зов? "Алим, дитя моё. Возвращайся домой. Дочки твои плачут. Аллах подарит нам сына…"
Через год после возвращения дедушки с войны бабушка уже на излёте женских сил родила мальчика, моего дядю Ахмата.
Дедушка до самой смерти работал в своём саду. И учил внуков ухаживать за виноградом.
- Не жалей, удаляй слабые пасынки. Оставляй только сильные.
Умер он зимой, а весной сад не зацвёл и как бы засох, замер в коме. Стояли чёрные стволы без единого листа. Дядя хотел было спилить, но старики из махалли сказали – подожди, не спеши. И следующей весной сад ожил и расцвёл.
В родовом гнезде теперь живёт дядин сын Ахат со своей семьёй. Тут всё, как было при бабушке. На воротах снаружи венок из нанизанных на проволоку стручков жгучего перца – от сглаза. Под навесом сушатся связки чистотела и душицы. Под персиками и яблонями грядки с щавелем, базиликом, чабрецом и жусаем. Бабушка учила – до первого в году грома огородную зелень собирать нельзя!
В глухих углах сада, где горько-миндально пахнет вишнёвыми косточками, буйно растут изумрудная мелисса и бледная, как будто припыленная мята. Стрекозы чертят в знойном воздухе свою бестолковую схему полётов. И только мураши точно знают, куда им надо, сосредоточенно, как самураи, двигаясь чёрной цепочкой по табачно-зелёному стволу ореха. Старые лозы прогибаются под тяжестью увесистых агатовых гроздьев. Одной кисти хватает, чтобы накормить ватагу черноглазых дедушкиных внуков.
В тандыре горит, дымит и потрескивает хворост, накапливая драгоценный жар, а в тазу под льняным полотенцем набухает и зреет тесто для патыр-нана. Нет слаще запаха на Земле, чем запах дыма бабушкиного очага.
Тутовое дерево почти перестало плодоносить от старости, но его не спиливают. На крюке покачивается ивовая клетка с грустным перепелом. Подойдёшь поближе, окликнешь тихо, он встрепенётся, посмотрит строго, клюнет просунутый между прутьями виноградный усик, наклонит полосатую голову набок и простонет своё – спать пора, спать пора…
Мне от дедовой красоты почти ничего не досталось. Ни изысканного разлёта бархатных бровей, ни изящного очерка скул, ни шёлкового мерцания кожи, ни атласного блеска волос. Всё разобрали на себя мама, тётки, сёстры и многочисленные кузины. К глубокому моему прискорбию…
Зато я лучше всех в роду умею выламывать слабые побеги. И сама готова к такой же участи, если на то будет воля Господня. Не надо жалеть то, что отнимает силу у лозы.
Главное, чтобы жизнь продолжалась, и наливались к осени хмельной сладостью тяжелые агатовые гроздья.