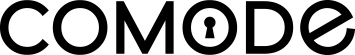Лето на юге уходит неохотно. Только ночью едва чувствуется первое прикосновение подступающей осени, когда воздух, освободившийся от гнёта жары, приобретает восхитительную невесомость, равную твоему молодому, наполненному радостью телу. Шестнадцатилетнему звонкому, тонкому, лёгкому телу, которого не чувствуешь. Не ощущаешь его по отдельности - где там сердце, где печень, где загадочная, неощущаемая в любом возрасте селезёнка…
Шины влажно шелестели по липкому, ещё не остывшему от дневной жары асфальту, педали податливо проваливались под беспечными ступнями, и не было конца этой сентябрьской ночи и лёгкой, щедрой на счастье, бесконечной жизни.
Катались мы не просто так, а по очень важному, отнюдь не ведьминому, а в чём-то даже ангельскому делу. Мы отвозили любовные письма Зульфие, забитой несчастной девочке, нашей однокласснице.
Даже по тем великопостным временам её вынужденный аскетизм резал глаз. Носила она одну и ту же убогую юбку в крупную клетку, старушечью мумифицированную трикотажную кофту с заломами и с плесневелым гробовым запахом. Были у неё волосы лежалого цвета, и какая-то жалкая осторожность в движениях.
Из глухих, невнятных сплетен было известно, что её отчим, низколобое тупое животное, притесняет её и третирует. Поговаривали даже о том, что соседи писали на него заявление о сексуальных домогательствах к падчерице, но равнодушная комиссия по делам несовершеннолетних дело аккуратно замяла.
И мы с Лариской придумали для Зульфии влюблённого в неё мужчину. Вдобавок женатого.
Сегодня всё это назвали бы одним словом – фейк. До сих пор задаю себе вопрос – зачем мы это замутили? Что в этом было смешного? Тогда не говорили «по приколу». Мы, две благополучные дуры, просто развлекались.
В конце каждого письма стояла подпись – нежно любящий вас Дмитрий. Тексты сочиняла я, а записывала их на тетрадных листах Лариска своим твёрдым, аккуратным и, как нам казалось, мужским почерком. Сочинение и написание страстных посланий занимало всё наше послешкольное время.
Милая моя пчёлка – писал вымороченный Лжедимитрий. Зульфия была похожа на какое угодно крылатое насекомое, но обнаружить в ней сходство с медоносной труженицей полей мог только воспалённый влюблённостью мозг придуманного нами обожателя.
Мы спорили, иногда до хрипоты, и даже ругались. Лариска, к примеру, настаивала на том, что перед каждым «что» нужно ставить запятую. Такие типы как «наш Дмитрий», утверждала Лариска, должны писать именно так. Боюсь, что это были её собственные представления о русском синтаксисе. Я же, увлечённая медоносной струёй нашей стилистики, норовила втиснуть в одну фразу уменьшительное существительное от слова «жало» (жалко) и наречие «жалко». Лариске это казалось чрезмерным.
Наконец, когда очередное послание после долгих препирательств и лингвистических дискуссий было готово, мы седлали наши велики и мчались к дому Зульфии, чтобы крадучись подобраться к калитке и опустить конверт в прибитый к ней почтовый ящик. На конверте значился почтовый адрес, индекс, а координаты отправителя отсутствовали напрочь. То, что на конверте не было почтового штемпеля, нас не смущало. Как позже выяснилось, это обстоятельство не имело никакого значения.
Каждое утро мы занимали свои позиции за партами, хищно ожидая нашу жертву. Мы искали на её лице хоть какие-то следы нашей дурацкой затеи. Всё было напрасно. Появлялась Зульфия всё в том же своём кошмарно неизменном наряде, с теми же блёклыми косичками, бочком протискивалась к своей парте и сидела там, молчаливая, никем не замечаемая, никому не нужная…
Мы с Лариской так и не узнали, получила ли, прочитала ли она хоть одно из наших с «Дмитрием» писем. Таких страстных, таких наполненных нежностью посланий.
…А город мой теперь никакой не сонный, но по-прежнему провинциальный и южный, изрядно обросший базарами и этими несносными торгово-развлекательными центрами.
Зульфия окончила технологический и держит успешное собственное ателье. Обшивает налоговичек и жён финансовых полицейских. Выдала замуж двух дочерей.
Лариска теперь фрау Клипенштейн, живёт под Дюссельдорфом в опрятном немецком доме с зелёной тщательно выбритой лужайкой, раздобрела, шлёт мне иногда фотографии своих откормленных на пшеничных булочках «бротхен» рослых немецких детей.
Только из меня ничего путного не вышло.
Всё что у меня есть - это память о тех нежных раннесентябрьских ночах, обременённых тяжёлой сладостью плодов уходящего лета, запахами нагретого асфальта, по которому летят с липким шелестом две юные беспечные ведьмы, везущие любовные письма от никого в никуда, в никуда, в никуда…