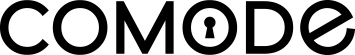Страшное слово «сохранение» для каждой беременной звучит как приговор. Лечь на сохранение – это добровольно отказаться от домашнего уюта, от нормальной жизни, принять заточение и впустить в себя больничную тоску. Но когда ты вынашиваешь двойняшек, у тебя практически нет выбора, ты живешь в состоянии перманентной угрозы преждевременных родов, так что дорога мне была - только туда, на сохранение.
Самый долгий срок, на который я обосновалась в дородовом отделении, исчислялся шестью неделями моего беременного лета, и это было лучшее «сохранение» из всех, что мне довелось пережить. Со мной в палате лежала Лиза Лужова – чудесное создание, взбалмошное и неунывающее. Нас упекли почти параллельно, и в момент, пока упекали-заполняли-переодевали, она шепнула мне: «А ты чего такая кислая? Ну-ка брось! У меня есть грибы соленые!» Соленые грибы в нашем положении были немыслимой дерзостью. Все, что нам было можно, – это рис и творог. Но идея мне понравилась. Как потом и все другие ее идеи.
Лизка вынашивала своего первого позднего ребенка и по сценарию должна была очень беречься и бояться его потерять. Но она не могла держать в узде живущих в ней бесов и, даже сидя на кровати, все равно двигалась – например, болтала ногами. Или крутила головой. Лизка была человеком без границ.
Однажды молодой врач на обходе потрогал Лизкину грудь – стандартная манипуляция. Лизка закатила глаза и сдавленным голосом проговорили: «Доктор! А вы можете еще так поделать?!» На вопрос «Когда вы начали свою половую жизнь?» Лизка всем врачам давала разные ответы, постепенно снижая возрастную планку – к концу нашего сохранительного сезона она уже дошла до четырнадцати, с удовольствием наблюдая, какой шоковый эффект производит на врачей. «Я вот одного не пойму! – возмущалась она. – Мне тридцать девять лет. Неужели теперь это может иметь хоть какое-то значение?»
Лизка не позволяла нам проводить время в печали и, как только в палате образовывалась пауза, громко пела:
«Ты сегодня мне принес, не букет из белых роз
Не ромашки и не лилии-и-и-ии-и-и
Ты сегодня мне принес
Толстый х@й под самый нос
И вздохнула я: «Ах, милый мой!»
Припев мы должны были подхватывать все вместе: «Ландыши, ландыши, теплого лета приве-е-е-ет». Не подхватывать было нельзя, Елизавета дирижировала и обижалась. И мы подпевали. Управляла она нашим нестройным хором с риском для жизни: стоя на кровати и выписывая одной рукой в воздухе какие-то сатанинские силуэты. Причем не всегда в такт, потому что кровать была с панцирной сеткой и этой рукой ей надо было еще и балансировать, чтобы не упасть, а другой она придерживала живот.
И поэтому мы тянули: «Ла-а-андыши, ла-а-андыши». Подпевала даже мрачная Женя, которая почти всегда молчала. Под сердцем она носила «ребенка без отца», а на лице – маску невозмутимости, которая, как ей казалось, должна была скрыть ее личную трагедию, сделать для нее и для всех не такой уж трагичной.
«Да брось ты, Жень, – говорила Лужова. – Где они, отцы-то? Нет, ты мне покажи! Их нету и сроду не было. Бульон два раза принесут, а потом – хы, и нету. Тебе так нужен бульон? Вон, мой возьми».
Женя вздыхала. Бульон не брала. Но ночами ходила на кухню есть курицу, которую ей приносила мама. Вообще-то доступ к холодильнику был для нас отрезан. Кухня после ужина в 17:00 закрывалась на большой амбарный замок. Но мы, сидящие на специальной диете, испытывали чувство голода всегда: до еды, во время, после еды и особенно ночью. И конечно, мы в первый же день проследили, куда медсестра прячет ключ: выкрадывать его, а с утра пораньше возвращать на место было проще простого. Каждую ночь ключ предусмотрительно оказывался в нашей палате. Женя выковыривалась из кровати, брала ключ и шкрябала одна на кухню. Нас не звала. Наверное, привыкала к одиночеству. «Может, мужик и не захотел с ней остаться, потому что она, как говорили у нас в классе, единоличница! – предполагала Лужова. – Но вообще не пойму: чо так убиваться?!»
Когда Женя возвращалась, на кухню прокрадывались мы с Лужовой. Ее грибы были из Магадана, потому что у нее в Магадане жили родственники. «Рожу – поеду, – говорила Лиза, орудуя в общественном холодильнике. – Они меня всегда ждут. О! Смотри, у кого-то лежит птичье молоко! Хочешь?» Птичье молоко я не хотела. Запретные Лизкины грибы были вне конкуренции. Мы боялись отеков и съедали ровно по два. Лизка считала, что от двух ничего не будет. Я со своей стороны предлагала сыр. Нож в темноте было трудно найти, и мы просто откусывали от большого ломтя по кусочку. После этого несанкционированного банкета мы стояли обычно у распахнутого настежь кухонного окна. В нашей палате подойти к окну было нельзя, потому что к нему вплотную были придвинуты кровати. А здесь можно было повесить руки на решетку и смотреть на луну.
«Родим своих крохотуль, и будут они под этой луной шастать. Счастья искать…» – говорила вдруг Лизка и тут же, без всякого перехода: «Ландыши, ландыши, теплого лета приве-е-е-е-ет».
Четвертая кровать в нашей палате была нестабильная. Там никто не задерживался. День-два – и домой. Однажды там плакала девушка перед абортом. Однажды лежала активная всезнающая мадам, которая рожала уже пятого ребенка, ничего не боялась и – о ужас! – ела плов прямо в палате. Однажды молодая совсем девочка, с угрозой выкидыша на раннем сроке – худенькая и внешне ничуть не беременная, которая, внимательно оглядев нас, страшно испугалась, что скоро с ней произойдет то же самое, что и с нами. Но чаще кровать пустовала, и как-то Лужова сказала мне: «У тебя уже живот с двух сторон кровати свисает. Давай тебе пустую придвинем – все-таки вас трое!» Придвинуть на самом деле было некуда – это Лужова фантазировала – и я старалась умещаться на одной. Все, что могло втиснуться рядом с моей кроватью, – это стойка для капельницы, моя самая преданная шестинедельная спутница. Иногда она раздавала мне лекарство из двух флаконов сразу в две ноги – вены на сгибах рук к тому моменту уже безвозвратно исчезли, уступив место двум фиолетово-сине-желтым лепешкам. Руки плохо сгибались, болели. Лужова бинтовала мне их, прикладывая к синякам какой-то особенный раствор – их, семейный, древний, таежный. А потом убирала мне волосы со лба. И говорила уверенно: «Все – родим! И всё у нас заживет!» А утром, когда я просыпалась, Лизка уже стояла у моей кровати, улыбаясь: «Вставай, соня, скоро завтрак. Пойдем, бивни почистим». После ужина каждый вечер мы с Лужовой торжественно шли гулять на улицу. Это был мой любимый аттракцион. Все выходили в больничный двор вообще не понимая, для чего, так - время убить. Как в тюрьме, только здесь все были в цветных халатиках и с животами.
«Пойдем, магаз позырим!» – предлагала Лужова.
Выйти за ворота можно было двумя способами. Сделать страдальческую мину и завыть в лицо охраннику: «Дяденька-миленький-пожалуйста-на минуточку. К мужу выйти!» А можно было: морду топором – и как ледокол «Арктика». Лужова выбирала как Арктика. «Ну он же из-за нас свой пост не бросит», – говорила она, кивая на охранника и улыбаясь ему во весь рот. И он не бросал. Мы победным шагом шли до конца по пыльной улице в тапках и останавливались у окна покосившегося одноэтажного дома, побеленного известкой. В квадрате окна на маленьких полочках лежали королевские угощения. Сникерсы и фанта, шоколадки и батончики, зефир, вафли и халва. «Третий ряд сверху второе справа – чур, мое!» – кричала Лужова. Я тоже выбирала себе что-нибудь. Виртуальный бублик. «Эх, жаль, опять не работает, а то бы мы накупи-и-ли всего!» – шутила Лизка свою дежурную шутку, и мы шли домой. В нашу палату №3.
Для меня до сих пор остается тайной, где больницы берут такой специальный свет, при котором даже в роддоме, который вроде бы является символом жизни, ты выглядишь абсолютным мертвецом. Где они находят такой цвет для стен, работающий в полном созвучии с освещением и призванный уничтожить в тебе любые ростки радости и гармонии. Откуда берется этот запах – нет, не лекарств, а какой-то жуткой смеси ацетона, хлорки, спирта и подгнивающей капусты. И каким невидимым эйч-аром подбираются эти специально обученные женщины со швабрами, чьи голоса и фразы словно детально оттачивались в едином стандарте: «Я кому говорю, на чистое не наступать!»
И среди всего этого больничного величия – сумасбродная Лужова со своими грибами и ландышами и с удивительно философским подходом к вынашиванию беременности. Странно, что именно сюда, в «Патологию» родильного дома, где само название кричит о том, что всем присутствующим требуется ходить по струночке – именно сюда судьба прислала мне этот своевременный и щедрый подарок. Жизнерадостную и неуемную Лизавету Лужову, рыжую, растрепанную, прыгающую на кровати тридцатидевятилетнюю женщину с характером маленькой девочки. Которая наравне с чудодейственными таблетками и всякими медицинскими методиками сохраняла мою беременность и, что еще важнее, сохраняла меня саму, давая ощущение, что мы вовсе не изгои, а нормальные живые люди. Только беременные.
«Обещай, что приедешь ко мне домой, когда родишь», – не попросила, а потребовала Лужова. Мы сидели на своих кроватях, провалившиеся почти до пола – два бегемотика в облезлой, ставшей нам родной палате, где мы провели общих полтора месяца. Я читала ей вслух – это тоже было одним из наших излюбленных развлечений. Нас только что чуть не выгнали из стационара, потому что мы стащили из ординаторской истории наших болезней – хотели посмотреть, что там про нас врачи пишут. Это стало последней каплей. Да мы и сами понимали, что сильно контрастируем с устоями родильного дома и его режимными законами. Во всем, если не считать чтения. Мы дали честное слово, что больше не будем. И пошли читать.
«Обещай, что приедешь», – настойчиво повторила Лиза. И я приехала. Она открыла дверь. У нее в руках был конвертик и у меня два. Мы положили конвертики на диван рядочком и бросились обниматься и скакать. Мы удивлялись, что можем беспрепятственно обнять друг друга, потому что у нас уже не было животов. Когда мы наобнимались вдоволь – счастливые и радостные, мы встали возле дивана, где лежали конвертики. Посмотрели на них, потом друг на друга и, не сговариваясь, хором заплакали.
Обе знали, о чем плачем. Всё было позади, мы сохранились.