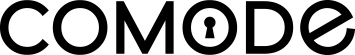Хотя первое время я об этом и не задумывалась: все сводилось к эйфории от одного взгляда на зеленые глаза с круто изогнутыми темными ресницами – не пушистыми, нет, а такими гладкими, как будто только вышедшими из тугого плена специальных щипчиков. На прямой и изящный, но при этом не девчачий нос, такой породистый, с тонкими, трепетными ноздрями, такими совершенными, что собственный профиль мне казался вырубленным топором. На завитки волос за ушами – боже, как я боялась, что он их сострижет! Они были божественны. При, в общем-то, коротких волосах, не слишком густых, но очень мягких, тонких, небольшие – чуть более темные и густые – завитки были деталью, которая еще больше акцентировала внимание на ушах. И вот тут, скользя взглядом по этим милым завиткам, мне каждый раз казалось, что уши его должны быть чуть-чуть другими. Вся его фигура – узкие талия и бедра, широкие плечи, тонкие запястья и длинные, аристократичные пальцы – вкупе с высоким ростом делала его похожим на эльфа. Я его так про себя и называла. Какая же у него была тонкая, почти прозрачная кожа! Не чета моей – загорелой, огрубевшей от зимнего солнца и ветра.
.jpg)
При этом он совсем не был неженкой – тяжелая музыка, агрессивное катание на лыжах и сноуборде, травмы. Со стороны казался холодным и замкнутым – редко улыбался, мало разговаривал. Мне казалось, он вовсе меня не замечает, мысли его где-то далеко. Еще и вечные наушники, и скорость – я научилась кататься благодаря ему. Просто мечтала догнать его хотя бы раз и невзначай сесть рядом на кресло канатки. И целых 14 минут ехать вдвоем – а вдруг он заметит, заговорит?
Но была в нем какая-то внутренняя нежность – не знаю, как я увидела-заподозрила-разгадала ее тогда. Этот его взгляд – без слов, без жестов пронзал меня насквозь, даже когда мы почти полгода спали вместе по выходным.
Полгода. Да, в первую нашу ночь, когда я все-таки напилась и изнасиловала его, он мне сказал, что любит другую. Видимо, так растрогался от моей страсти, что поведал мне грустную историю невзаимности. Она была еще более странной, молчаливой и замкнутой, чем он. И с такой тоской он описывал ее темные глаза, короткие волосы, маленькие ступни, что мне хотелось умереть.
Зима
Я ведь долго его добивалась – просто так оказаться с ним в одной постели было невозможно. Я подружилась с его братом и мамой, кошками, собаками, общими знакомыми. Не пропускала ни одного выходного – мы ездили кататься и частенько всей толпой оставались ночевать у ребят: дом большой и до горнолыжки ближе. Но это не слишком приближало меня к нему: в разгар веселой попойки он спокойно брал свое пиво, уходил в комнату, надевал огромные наушники и начинал рисовать. Брат, мама, да и некоторые друзья – те, кто давно уже разгадал причины моих частых визитов – журили его, пытались вытащить к нам, но он был спокоен, холоден, доброжелательно-равнодушен – я влюбилась в камень! Хотя и тот бы уже отогрелся от моего пыла.
.jpg)
Понадобилась какая-то совершенно сумасшедшая пьянка, после которой мы глубокой ночью поехали к ним, за город, чтобы продолжить. Вот тогда он сдался.
Дальше все было как-то очень просто, даже буднично. Я приезжала к ним на выходные. Мы шли гулять на холмы с его овчаркой, потом я помогала маме готовить ужин, смотрели «Южный парк», шли спать. Его полуторка была для меня островком непрерывного счастья – мне хотелось, чтобы она была еще уже, чтоб прижаться к нему сильней, прилипнуть насовсем и перестать дышать. Он смеялся. Отпихивал меня, говорил, что я толстая и занимаю много места. Мне было больно. Но я не обижалась на него – это было только мое счастье, я хотела насытиться им сполна. О взаимности – о таком же накале страстей с его стороны – я и не мечтала. Всегда помнила о той, худой и загадочной, с темными глазами. Поэтому засовывала свою боль поглубже, улыбалась ему как ни в чем не бывало, уезжала и приезжала, когда захочу.
Мы не созванивались среди недели. Зачем? Первое время я пыталась звонить, поддерживать иллюзию романа, влюбленной парочки. Быстро поняла, как это больно – звонить в пустоту. Перестала. Даже предупреждать перестала о своих приездах – этот дом стал мне таким же родным, даже без него.
Я полюбила его маму: ее светлые пышные волосы, тонкие, «породистые» черты лица – сразу видно, откуда у него эта неземная внешность. В молодости она была красавицей – такой, что фотографии ее напоминали Грейс Келли и Софи Лорен разом. Нездешняя, несоветская красота. А главное – открытое, нежное сердце. Она любила и жалела всех и вся и помогала всем подряд, несмотря на свое незавидное состояние и со здоровьем, и с деньгами и вообще на разбитую и растоптанную, как мне казалось, жизнь. Она всегда была рада гостям – тут же делала свое коронное песочное печенье, картошку, раздавала чистое, выглаженное и ароматное постельное белье, полотенца. И никогда не вздыхала, не жаловалась. Постоянно что-то мыла, стирала, гладила, готовила, сажала цветы – и все с улыбкой. Даже ее возмущение и крики были такими скоротечными и беззлобными, что всерьез их принять было сложно.
Я как-то возмутилась, что сыновья не помогают ей, а она для них каждый день что-то печет и вкусности покупает и гостей их ораву кормит-поит. А она улыбнулась и сказала, что это все ей совершенно не тяжело, она даже не устает, потому что любит их, своих непутевых мальчиков. Я так полюбила ее, что встречалась с ней гораздо дольше, чем с ее сыном.
.jpg)
Весна
Я часто приезжала без предупреждения, и он меня не ждал. Но и я уже перестала судорожно искать его взгляда, слова – я познала Любовь. Ту, идеальную, что без жажды обладания, без ревности. Мне было достаточно знать, что он существует, что в любой момент я могу прыгнуть в такси и – 40 минут по трассе, а потом еще 10 пешком по улочкам с остатками асфальта, большими деревьями и маленькими домами – увидеть его. И это было счастье.
Даже не знаю, к кому я тогда приезжала – к овчарке Джерри, с которой уходила далеко в поля, в холмы, реализуя детскую мечту о большой умной собаке. Или к его маме, которая напоминала мне рано ушедшую бабушку своим теплом, уютом и нежным вниманием. Мне было хорошо. Это был мой секретный мир – я сбегала туда при любой возможности. Большой дом, немного пыльный, с недостроенными комнатами и сломанной входной дверью, но светлый, уютный, с большими окнами. Кошки, котята, верный Джерри и маленький старый пудель – все это было моим. И бескрайние холмы, поросшие такой короткой зеленой травкой – весной, как бархат, мягкой и плотной.
Мы уходили туда надолго, Джерри охранял меня, нарезая круги и пугая овец и коров. Хозяева его удивлялись: почему он меня слушается? Братья нечасто ходили с ним гулять: он, как безумный, тянул поводок, рвался скорей в поля, на свободу, а там уже убегал, забывая о них, и носился, счастливый. Со мной он был само благоразумие и надежность. Может, чувствовал вину за хозяина, который так часто пропадал и так редко сопровождал меня – такую беззащитную. Джерри это чувствовал. Наверное, как и трещину, что с каждым днем отрывала мое сердце от ненаглядного, волшебного, почти моего – его.
.jpg)
Лето
И было лето. И страсть моя зимняя стала тихой, саднящей раной – сердце щемило то ли от нежности, то ли от одиночества, уже не разобрать. Но я была, как всегда, спокойна и весела – не хотела грузить его своими переживаниями. Мы собирали вишню на даче. Утренний свет косо падал через перекрестье веток, жужжали пчелы. Он был красив, как греческий бог: волосы стали чуть длинней, завитки – наглей, загорелое лицо – в веснушках-поцелуях солнца. Он смотрел на меня снизу вверх: я стояла на старой колченогой скамейке, пошатнулась – и тут он впервые проявил как будто любовь: испугался и крепко обхватил мои ноги. И прижался к ним, улыбаясь, и не отпускал. Я смеялась – это выглядело так серьезно! Как будто любовь. Как будто забота. И после радостного укола – ведь волнуется! – стало еще больней. Мы говорили про ее день рождения. Он советовался со мной – о боги! – по поводу подарка. И почти не кололо в груди – я запретила себе чувствовать эту холодную иглу. Мы собрали вишню, я взяла свои вещи, улыбнулась и уехала.
Долго не приезжала – неделю или даже две-три. Для меня это было пыткой – без его зеленых глаз, морщинок от такой всегда чуточку смущенной улыбки. Он не верил мне, что красив. Что я схожу с ума от его веснушек, и ушей, и пальцев, и спины, что я – такая яркая, заводная, готова целыми днями просто сидеть рядом с ним, в глуши, и смотреть, как он рисует.
.jpg)
Осень
Мы никогда много не разговаривали – я пробовала, но ответное молчание было понятно даже такой болтушке. Я научилась молчать – и это перестало быть дискомфортным. Но когда мы стали чуточку ближе – где-то осенью, почти год спустя – он сам стал мне рассказывать удивительные вещи. И о том, как он сразу меня заметил, но не верил, что такая яркая девушка выберет его из всей компании. Что он даже помнит, в чем я была – оказывается, мои красные вельветовые джинсы выгодно подчеркивали попу. И что все ему во мне нравилось и восхищало.
Его как будто прорвало – он стал нежен и внимателен. Стал звонить и звать погулять в городе. Утром вставал первым и варил мне какао. Это было не просто молоко с каким-нибудь несквиком. Он грел молоко, наливал на донышко стакана и тщательно размешивал смесь какао-порошка и сахара в каких-то секретных пропорциях, добавлял вязкую шоколадную смесь в горячее молоко, насыпал какие-то пряности – вкус и запах были восхитительными. Еще чудесней было то, что дома никого не было и можно было щеголять в его толстовке и шерстяных носках, валяться в кровати полдня, перебираясь на диван к телевизору.
Была осень. Холодные ночи, его объятья – уже не мои, теперь он всю ночь держал меня, как будто боялся выпустить из рук. Стал ластиться, как кот, говорить милую чепуху, улыбаться счастливо, открыто.
Днем было солнечно, и воздух такой по-осеннему прозрачный, и небо синее – летом такого не увидишь: оно будто выцветает от слишком яркого света. Мы гуляли по холмам втроем, Джерри был счастлив как никогда. Валялись на траве, а один раз даже сходили в горы. Его как будто подменили – друзья вслух восхищались моим влиянием, мама открыто радовалась нашим отношениям и частенько ругала сына за недостаточное внимание. Он говорил, что я приношу солнце в их дом, мама – что наполняю его жизнью. Наверное, предвкушала свадьбу и внуков.
Он все реже говорил о ней, той, с темными глазами. И если говорил, называл ее глупой, бесчувственной и скучной. Сказал, что любит меня. А я не сказала ничего. Он немного удивился, но расспрашивать, настаивать не стал – наверное, думал, что это я теперь ему мщу за холодность или просто «набиваю цену» – не знаю. А я… мне было пусто. Там, где росла любовь, горячей волной расплескиваясь на все, что его касалось или окружало, – было темно и прохладно, как в чулане. Казалось, что сердце заткано паутиной моих невысказанных обид, слез, невзаимной нежности, невнимания. Я не обижалась на него – я была рядом с ним, но смотрела на все это, как в кино. Не могла вернуться в кадр – слишком долго старалась не чувствовать боли, дистанцироваться, чтобы просто наслаждаться тем, что он позволяет себя любить.
Перегорела? Любила не по-настоящему? Бог его знает. Просто что-то во мне умерло – потихоньку умирало от каждого рассказа о ней или от пустых звонков, нежелания провожать меня или, наоборот, возвращать, когда я, сдерживая слезы после его очередной холодной глупости, уходила из их дома, убегала. Он ни разу не побежал за мной. Когда я смотрела на такие кадры в фильмах, всегда удивлялась – почему же не догонит, не обнимет, не вернет? Думала, для лишней трагичности – это же кино, а не жизнь. А у меня было свое кино. Мелодрама? Триллер? Трагикомедия, фарс.
.jpg)
Зима
И пришла зима. И я каталась не хуже него, и не было нужды гоняться за ним. Теперь уже он высматривал мою траекторию и старался занять место рядом на подъемнике. И когда мы компанией уезжали на несколько дней, это он старался побыстрей уйти из общей комнаты, чтобы побыть со мной. Я позволяла себя любить. Не из мести, не из глупой гордыни. Я смотрела на его пыл, на его горящие глаза, его тонкие пальцы, стремящиеся, будто невзначай, прикоснуться – и надеялась, что мое сердце вот-вот проснется. Что он оживит его своим пылом – ведь смогла же моя любовь разбудить в его сердце такие чувства! Но это не сработало.
Ссор не было – нам нечего было делить. Любовь угасала. Я приезжала все реже. По-прежнему чувствовала к нему нежность, он был все тем же волшебным эльфом, но мне расхотелось жить в его мире. Я стала видеть его недостатки – они не раздражали меня, нет, только удивляли. Мы вяло расставались – просто переставали видеться, пару раз объяснились, попробовали начать что-то сначала, по всем правилам – с ухаживаниями и всем таким прочим, но это было такой грубой фальшивкой, так не подходило к нашей истории любви.
Я еще долго общалась с его мамой. Мои редкие приезды причиняли ему боль – это было видно невооруженным глазом. Я стала договариваться с ней о встречах в городе, или когда его не было дома. Но из нее как будто тоже ушла жизнь – она как-то постарела, ее нежная энергия стала такой слабой, как будто все силы потратила на то, чтобы сохранить наши с ним отношения. И неудача подкосила ее. Он любила меня – злилась только на него. Видела мою любовь и горевала, что он так поздно очнулся. А я вдруг вздохнула с облегчением: мне кажется, она видела во мне молодую себя, готовую любить и жертвовать собой для всех, и была рада, наконец, отдать хоть часть своей ноши, а может, и всю. И я поняла, что не хочу такой судьбы. И почувствовала благодарность к нему, такому медленно оживающему, что не ответил мне взаимностью сразу. Ведь я была готова горы ради него свернуть – что мне недостроенный дом, хозяйство, плохие дороги и перебои с деньгами – я была готова спасать его мир. Как она когда-то.
Спасибо тебе, мой холодный эльф, за то, что наши пути не сошлись. За крепкое плечо.
Автор: Дульсинея Ламанчская