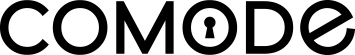Ее матери, Надежде, нравилось само слово. Пэ-э-эчуорк. По-русски это звучало бы простовато-деревенски – лоскутное шитье, и чудился еще Наде в корне «лоскут» душок рваного беспризорного белья после лагерной прожарки.
И нравилась ей сама эта затея: пригласить подруг для модного американистого занятия – с душевными разговорами, с сигареткой, с чаем, а может, и с рюмочкой чего покрепче – чтобы соорудить дочери в приданое шикарное покрывало ручной работы с вышитой по центру монограммой. Была в этом и новизна, и свежесть, и здоровый выпендреж, и обещание другой, безмятежной наконец-то жизни. Из корыта житья-бытья, исполненного до краев помоев и объедков, Надя нахлебалась вдоволь. Качнулась, съехала набекрень, скрипнула и расползлась по швам союзнерушимая держава и из прорех посыпалась труха всего прежнего. Город запаршивел, завшивел крикливым тряпьем бесконечных барахолок. Появились диковинные сигареты, подозрительные ликеры и фальшивая водка из летального спирта. Ушел от Нади муж, ушибленный Афганом летчик, ушел некрасиво, не по-летчицки, прихватив из дома все относительно ценное. И было бы к кому уходить. К телке со слипшимися ресницами, едва ли не ровеснице их дочери. Надя с детьми осталась в служебной квартире военного городка. В прежнее время жилище это казалось ей вполне сносным, а с уходом мужа открылась взору убогость замусоренных дворов, обшарпанных фасадов, смрад ржавых помойных баков, заскорузлость оконных рам и безнадежная тусклятина стекол. Дверь подъезда в фанерных заплатах скрипела петлями и хлопала в ночи громче и безысходнее. Все стало каким-то никому не нужным, бесхозным. Незалежным каким-то.
Все, да не все. Шустрые востроглазые человечки на поношенных праворульных машинках прибрали к рукам институт каракулеводства, где работала Надя. Не увольняли, но и не платили работникам зарплату, иезуитски рассчитав – сами отвалите, голод не тетка. Город слеп без света, зяб без газа, а цены на них росли. Не выключалась только вода, истекая из крана вялой грязноватой струйкой.
А потом над шестнадцатилетней дочерью Машей скотски надругались, изнасиловали, затащив за гаражи, два отморозка «с района». Заявлять не стали, отговорил знакомый полковник милиции. Стыда не оберется девчонка, а мрази все равно отмажутся. Так и сделали. Полгода после этого Маша не выходила из дому и страшно исхудала. Надежда тряслась дни и ночи: могла случиться беременность или, что еще хуже, СПИД. Обошлось.
Ей-то и шили в приданое покрывало три верных подруги – Надя, Люба и Вера. Покрывало вытанцовывалось штучное, изысканное – из крепсатина наилучшей выделки был выложен богатый венок из роз, буквицы и водосбора в нежной оплетке из побегов вьюна. Простегивали вручную мелкими мурашиными стежками и слушали очередную Веркину байку.
- Трусы парусом надула и наладилась на базар. Оделась, как на панель 7 ноября: куртка кожаная, антрацит, мля, водолазка, колготки, юбка трикотиновая – все черное-пречерное. И полусапожки в цвет. И помада алая. Фамм фаталь с микров, понтов, как дров. Только собралась выходить, как матушка в двери. И как давай причитать: яичники застудить хочешь? Ей же больше не о чем беспокоиться, чем за мою гинекологию. Встряла в дверях и блажит на весь подъезд: пока панталоны не оденешь, не выйдешь…
- Это такие, до колена, с начесом? Бирюзовые? – припоминающе уточняли подруги.
- Да, конкретные такие! Снизу до колена, сверху до сисек. Ладно, думаю, надену. Стала их напяливать, и тут с юбки отлетает пуговица. Она там единственная. А пришивать лень, охота же из дома побыстрее смыться. Застегнула булавкой и двинула. Иду и думаю: правильно маман настояла. Их же не видно, в конце концов, зато жопа в тепле. На базаре купила, чего надо, комплиментов пучок от азеров словила, стою на остановке, автобус жду. Стою вся такая, ахкакаяженщина, а мужики из машин чуть не по пояс вываливаются. И смотрят-то на меня, да все куда-то вниз, вроде как на ноги. Ну, думаю, смотрите, любуйтесь, есть что показать. А потом чую – че-то не то. Шары лупят и рожи слегка охреневшие. Опускаю глаза. Твою да маму! Юбка моя, сука, лежит на земле, как спущенная шина, а я стою вся в черном и в бирюзовых рейтузах!
Отсмеявшись вместе с согнувшимися от хохота в три погибели подругами, Вера воздела вверх наманикюренный палец:
- И с тех пор, девки, я отлетевшие пуговицы пришиваю немедленно, не откладывая!
Вера была самая красивая и самая умная. Так давно уж было договорено промеж подругами: считать за красоту ее стройную поджарость, упрямый лоб и строгую линию рта, а за ум – Верину невероятную способность менять мужей каждую пятилетку и сохранять при этом многолетний роман с пожизненным любовником Исааком Моисеевичем, евреем из Тбилиси с замашками грузинского князя. У него был, на вкус Вериных подруг, не самый элегантный способ зарабатывать деньги. Фирма, вопреки поговорке, вязала веники. Эвкалиптовые банные веники, коими парились в Новосибирске и Омске, Воркуте и Магадане, Владивостоке и Хабаровске.
Возвращаясь после негоций в Грузию, Исаак Моисеевич заезжал по пути к «дарагой Вэре», непременно с подарками – то кухлянка из оленьих шкур, то кубанка из соболя.
От грузинских щедрот иногда перепадало и подругам: Вэра, дэвачкам от мэня им духы передай. И вынимал из чемодана две коробочки «Climat». А в чемодане еще с дюжину таких же. Для жены, дочерей, своячениц и тещи.
Фешенебельный мужик – вздыхали «дэвачки», трепеща ноздрями у крышечки флакона. Нам такого ни в жисть не сыскать.
Часы летели незаметно, отмечаясь на полустанках перекуров свистками закипевшего чайника. Близоруко копаясь иглами в шитье, подруги слушали Любину историю…
…Никогда в жизни она не видела таких интересных пуговиц. Округло-выпуклые, цвета светлого пива, в обрамлении из серебряной витой проволоки, и каждая заключала в янтарной взвеси по крошечной пленнице – букашке. Видны были мельчайшие детали – чуткие усики, смиренные лапки и – с маковое зернышко – как бы удивленные глазки: за что нас так?
В кошельке лежали последние двести тенге. Кофточка с чудесными пуговками тянула примерно на двести пятьдесят.
Прошлась вдоль вешалок с мрачными пальто, похожими на висельников, рассеянно потрогала костистые ключицы плечиков с линялыми ночнушками и пижамами. В помещении стоял утробный запах секонд-хэнда – чужого тела, дезинфекции и прогорклой «Красной Москвы».
Вернулась к сетчатому манежу, запустила пятерню в ворох тряпья. Сонный хозяин лавки скучливо шагнул вон на крыльцо, разминая сигарету.
Люба взяла кофточку и принялась отрывать пуговицы. Можно было достать маникюрные ножницы, да времени в обрез. Крутила пуговицы по часовой и против, вырывая их с мясом из застиранного штапеля. Сунула трофеи во внутренний карман жакета. Истерзанную кофточку скомкала и утопила поглубже.
В горле и в груди горело, саднило.
Пришла домой, прошла на кухню. Открыла холодильник, посмотрела и выдернула вилку из розетки. Достала из жакета пригоршню пуговичек, рассмотрела на свету каждую, покатала по ладони. Отражению в зеркале сказала: ты, конечно, вор авторитетный… И сложила пуговицы в пустяковую шкатулку из ракушек, где лежали порванная цепочка и одна золотая сережка.
Накануне днем она встретилась с Анваром. Работали вместе когда-то на фабрике первичной обработки шерсти. Люба в лаборатории, Анвар снабженцем. Столкнулись вчера случайно на базаре. Позвал в кафешку. Съели по шашлычку, пива выпили, покурили, поговорили за жизнь. И так стало Любе тепло от его ласкового сочувствия. Вот и не дружили же никогда, так, здоровались. Иногда только поглядывал со значением, специальным мужским взглядом, дальше того не шло. Впрочем, Любе было не до приключений – колотилась одна с детьми, крутилась как могла, на продажу вязала пинетки. Фабричные воровали шерсть, у кого на сколько куражу хватало. Дирекция – вагонами, работники – килограммами и центнерами, скрутив ее в тугую пудовую колбаску на специальном станочке. Аппарат прятали в подсобке под замком, пользовались им несколько десятков посвященных и допущенных, Люба в этот «клуб» не входила. «Колбаску» перекидывали через высокий бетонный забор на задах фабрики, в заросли джиды. После смены проходили через шмон охраны, выходили с территории шли забирать добычу из колючих кустов.
А потом истощились овечьи и верблюжьи стада, и фабрика гикнулась туда, куда сгинуло все. Теперь там склады с китайским строительным барахлом.
Анвар закурил, отхлебнул пива и, глядя прямо в глаза, спросил, в какую смену учатся дети. Нужно серьезно поговорить, добавил он, щурясь от табачного дыма. Люба, зажмурившись от собственной отваги, назвала адрес.
Пришел утром следующего дня. Чай пить не стал, Люба последнюю банку с малиной открыла, берегла ее детям на простуды. Отодвинул чашку и заговорил делово, суховато, без лирических отступлений.
- Хочу помочь тебе. Съездишь в Новосибирск, отвезешь кое-что. Груз. Это называется груз. Билеты оплачу туда и обратно. И суточные дам. Вернешься, получишь премию. Деньги хорошие. В поезде помалкивай, книгу возьми или в окно любуйся. На Расею. Сойдешь на предпоследней перед Новосибирском станции, не прозевай только, это важно. Пойдешь в чебуречную, увидишь там – на входе из дерева вырезанный Чебурашка. Возьмешь еды. Сиди и жди.
Анвар достал сигарету, запалил ее, мягко, как олененок, обволок губами, затянулся. И Люба поняла, кого он ей всегда напоминал. Актера Талгата Нигматулина.
- Придет парень русский, – продолжал Анвар, стряхивая пепел в блюдце. – Он тебя сам узнает, не беспокойся. Сядет напротив, спросит, когда следующая электричка. Сумку с грузом поставишь на пол, в ногах, под стол. Он заберет ее и уйдет. Езжай в Новосиб на автобусе, на рынок там съезди, детям гостинцев купи и назад, домой. Все поняла?
- Да поняла, не маленькая.
- Вот и молодец. Ты баба толковая, грамотная, тебе только помочь надо.
Встал, потянулся, скрестив над головой руки, одернул куртку. От него шла теплая волна запаха здорового мужского тела, табачного дыма и хорошего парфюма.
- Завтра приду в это же время, – сказал он и поцеловал в висок сухими горячими губами. На столе под чашкой осталась двухтысячная купюра.
…До прихода Анвара оставалось полчаса.
Вещи с томиком «Унесенных ветром» были уложены в дорожную сумку. Люба стояла у окна, гадая, с какой стороны он появится. Ветер гонял тусклые пакеты вперемежку с жухлой листвой. На разоренной детской площадке вяло топтались закованные в комбинезоны малыши.
Анвар появился со стороны гаражей. Люба видела, как навстречу ему неторопливо шли двое парней, расступились, чтобы пропустить, и вдруг подхватили под руки. Анвар дернулся с немым криком, пытаясь вырваться, и согнулся от удара под дых. Из-за угла выехал уазик, из него высыпались полицейские.
Люба отпрянула от окна, села, а потом зачем-то легла на пол ничком. Лежала и ждала стука в дверь. Не постучали ни через минуту, ни через пять, ни через час, ни через два. Ночью лежала, не раздевшись, пялилась в потолок, где плясали тени от голых веток. Утром покрыла голову платком и вышла из дому. Магазин секонд-хэнда был еще закрыт. Подъехавший на «Мерседесе» через час продавец посмотрел удивленно на бледную, с кругами под глазами, женщину.
Откопала кофточку. Продавец даже взвешивать не стал, лишь взглянул на истерзанный штапель и бросил: стольник…
Молчали.
Люба беззвучно плакала, деликатно, как кошечка, не то сморкалась, не то чихала и бормотала: «Есть Бог, девочки, есть…»
Надя поднялась с места, похлопала Любу по плечу ободряюще:
- Пойти, чайник поставить, что ли…
- Да уж давай чего-нибудь покрепче, раз такое дело, – подала голос Вера, перекусывая нитку.
После третьей рюмки Надя «поплыла»:
- Девчонки, как хорошо, что вы есть…
Люба молчала, прокатывая меж ладоней пустую рюмку. Вера нервно курила, зажав сигарету по-мужски – большим и указательным пальцем. Слушали Надежду.
- Я ей пальто купила. Соседям прислали родственники посылку из Германии. А никому из их девочек не подошло, тесное. Я денег заняла, купила, хоть как-то растормошить дочку, как-то из дому вытянуть. И так оно ей впору пришлось, как на заказ. Вижу, перед зеркалом вертится, улыбается осторожно. Понравилось, значит, слава Богу. А тут зима проклятая наконец кончается. Я ей говорю: Машуня, прогуляй пальто, а то весна скоро. Съезди на базар, сухофрукты купи. Уговорила. Влезла она в автобус, а он битком набитый. В давке ей три пуговицы и сорвало. Машка на базаре не сошла, доехала аж до конечной, бросилась их искать на полу. Две нашла, а одну нет. А где такую пуговицу найдешь, вещь-то из Германии. Ну, ладно. Стала чаще выходить из дому в этом пальто. Нараспашку носит его, вроде как такой фасон…
Едет она как-то вечером, чувствует, что какой-то парень смотрит и смотрит. А она же пуганая, не может, когда смотрят внимательно. А тут еще вечер, темнеет. Он и подойди к ней. И говорит: девушка, я смотрю, у вас на пальто пуговицы не хватает. Это не ваша, случайно? И достает из кармана ее пуговицу! В давке тогдашней она ему в карман залетела. Так и познакомились. А теперь вот замуж позвал.
- Ну, кино-о-о… Надь, а он знает? Ну, про то, что с Машкой стряслось?
- Знает. Все как есть Машка рассказала. Не отшатнулся. Я, говорит, Мария, может, потому и не уехал со своими. Наверное, тебя ждал.
- Как пить дать, увезет теперь, – уверенно заявила Вера и опрокинула в себя коньяку, крепко отдававшего кондитерской. – И правильно…
***
Через полгода пришла посылка с подарками. Среди них письмо и фотографии – Маша с округлившимся животом, Маша с мужем и новой родней, Маша в саду среди цветов.
«А еще привет передавай тете Любе и теть Вере. Немцы на покрывало любуются. Мы его не стелим на кровать, в гостиной повесили над диваном. Немцы говорят, что это произведение искусства, такое стоит кучу марок. И все спрашивают, где взяли такую роскошь.
А я отвечаю: места знать надо…»
Автор: Салима Дуйсекова